На все Господь — Ремизов А.М
На все Господь
Жил Ипат не бедно, не богато, да пришло крутое время, и до того добился, что и питаться нечем стало. Жена, дети - что делать? И пошел он из села за тридцать верст на озеро рыбачить. И там, на озере, исправил себе балаган земляной и перевез на новое место жену и детей.
И так ему было горько на новом месте и жалко, - да так, стало быть, Бог дает! И положил он каждый день удить для жены и детей.
«Если на себя не заужу, то не буду есть!»
День удит, ночью Богу молится. И с месяц удил, зауживал на жену и детей, а на себя хоть бы раз попало. И дал ему Бог терпение, - за этот месяц он ничего не ел.
И вот выдался денек такой, заудил он две рыбки лишних.
«Слава Богу, сжалился надо мной Господь и мне дал. Нынче и я поем!»
Приходит с рыбой к балагану.
Говори, жена, «слава Богу»!
А что «слава Богу»?
Я на себя заудил, две рыбки лишних попались, Господь на меня дал!
Не на тебя это, я тебе еще родила два сына, на них Господь и дал.
Ну, придется и опять не евши. Слава Богу, что родила благополучно.
И трое суток еще удил, заужал на жену и детей, а на себя нисколько. Трое суток кончилось, пора бы ребят крестить.
Надо ребят крестить, пойду на село к попу!
И поутру пошел, оставил жену с детьми на озере в балагане.
Встречу попадает Ипату молодец.
Куда, Ипат, идешь?
А родила у меня жена два сына, надо крестить.
Возьми меня в кумовья. Посмотрел Ипат через правое плечо.
Нет, ступай уж… И без тебя потонул я в грехах. А тот как захохочет, да в сторону.
Ишь, какой!
Нечистый был это дух.
Отошел Ипат немного, идет молодец чище того.
Куда тебя, Ипатушка, Бог несет?
Жена родила два сына, иду к попу, надо окрестить.
Возьми меня в кумовья.
Посмотрел Ипат через правое плечо, видит, хорошей души.
Ладно, покумимся.
На тебе три золотых, - подал кум, - даром поп на своей лошадке не поедет. Отдай ему золото, а я пойду к твоей жене.
А это был ангел. За терпение человеку послал его Господь.
Не долго шел Ипат, за какой час в село поспел к попу.
Батюшка, я до твоей милости… жена у меня родила два мальчика, а живу я нынче в балагане на озере за тридцать верст, надо бы мне их окрестить. Я до твоей милости.
Посмотрел на Ипата поп.
А ты б их склал в полу, притащил сюда, я бы их и окрестил. Мне тащиться такую даль не рука!
И вышел в горницу.
Тут Ипат три золотых на столик, мнется.
Ты чего? - выглянул поп.
А на столике золото так и блестит.
Поп как увидел золотые и сейчас же стряпке: «Станови самовар!» - а кучеру: «Лошадь запрягай!»
Ну, Ипат, чайку напьемся, поедем, окрещу тебе ребят.
Нет, батюшка, чаю твоего не буду пить. Ты чаю напьешься, поедешь и меня нагонишь, я пойду пешком.
Поп пожалуй только еще из двора пошевелился, уж Ипат пришел на озеро. Смотрит: проруби его, а где балаган? Нет балагана, а на том самом месте стоит дом каменный и круг дома цветы расцвели.
Удивился Ипат. «Али неладно пришел?» А ему навстречу из дому старшие дети бегут.
Кто этот дом построил?
Пришел к нам какой-то молодец, вдруг все появилось.
Ипат за детьми.
В новом доме кум сидел на лавке.
Что, Ипат, загрустил?
А что, кум, непременно поп раздумал. Сколь я дорогой оглядывался, все нет, не догоняет.
Скоро будет! - утешил кум.
А поп тут-как-тут. Остановил лошадку.
Что за причина? Звал его Ипат в балаган, а, на-кась, дом каменный!
«Али неладно приехал?»
И повернул, было, лошадку назад ехать.
Иди скорей, Ипат, зови батюшку! - говорит кум.
Ипат на крылечко вышел. Поп увидал Ипата.
Ах, Ипат! Как поживаешь? Домик-то какой состроил, этакого и на селе нет!
На все Господь.
И повел Ипат попа в дом.
Ты, Ипат, поди в кладовую, - посылает кум, - три поклона положь, там стоит купель, а я за водой пойду, мне, брат, это полагается.
Ипат нашел кладовую, положил три поклона. Дверь сама ему отворилась. Там стоит купель золотая и купель серебряная. Он их вытащил в горницу, поставил середь горницы.
Кум с водой поспел, налил полну купель золотую и серебряную, велит за детьми сходить, детей принести.
Пошел Ипат и скоро вернулся один. Испугался.
Сходи, кум, сам принеси, руки не подымаются!
Экой, ты! - и пошел: одного взял на руку, другого - на другую, принес детей.
Один - в золотой ризе, другой - в серебряной. Поп, как увидел, и оробел.
Подобает ли крестить таких?
Открой книгу, - сказал кум, - гляди, какой сегодня день ангела, и крести!
Сам снял с них ризы, подал их попу.
Поп посмотрел в книгу, назначил имена им.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Кум передал их Ипату.
Снеси жене и по три поклона за них положь.
А сам из купели воду вылил, из золотой и серебряной, и опять поставил середь горницы.
Вернулся Ипат от жены.
Неси купель, - говорит ему кум, - а выйдешь из кладовой, три поклона положь.
Поп глядит и в толк не возьмет, что они это такое исправляют.
А Ипат снес купель золотую и серебряную, да к куму.
Нет ли, - говорит, - чем попа угостить? За тридцать верст приехал, небось есть захотел.
А поди, Ипат, вон к той кладовой, - учит кум, - три поклона положь, там на столике все приготовлено, тащи сюда.
Пошел Ипат, положил три поклона. Дверь сама ему отворилась. Там на престоле всего довольно. Постоял, посмотрел, а взять не взял, не решился.
Кум, - вернулся Ипат, - нельзя ли нам, чем таскать-то, за этим престолом угоститься?
Можно; иди, батюшка, с нами.
И втроем пошли в кладовую. И там угощались и поздравляли.
Батюшка, - поднялся кум, - тебе домой пора, засиделись долгонько.
Не очень-то, - ответил поп, - часа, поди, три прошло, не больше.
Нет, батюшка, ты у нас в гостях три года: три зимы прошло, три лета. Там тебя без вести потеряли и на твоем месте другой уж служит.
А нельзя ли мне с вами еще пожить? - попросился поп: больно уж приглянулось ему.
Ступай на свое место, - сказал кум, - недостоин ты жить здесь. И знай наперед: хочешь свою душу спасти, так ты, что дадут тебе, только то и бери… слышишь? Слепых на ум наставляй, чтобы они Бога могли признавать.
И проводили попа домой.
Тебе от Божьего храма не откажут! - утешил кум попа.
Так и распрощались.
Кум, - сказал Ипат, - мое дело - не легкое: ты уйдешь, останусь один, чем я буду детей пропитывать?
А есть тут еще кладовка, в этой кладовке лежит мешок большой, лопата и кирка, неси сюда.
Пошел Ипат, принес мешок, кирку и лопату.
Вот жене твоей, - сказал кум, - тут на пропитание всего довольно будет. А ты со мной пойдем.
И повел его с озера не путем, не дорогою, - диким местом Уралом.
И так его вел, что тот на себе все порвал, и с тела кровь на нем ручьями льет. Все терпел.
Кум, - стал Ипат, - за тебя, гляжу, ничто не задевает, а я на себе все прирвал, мне трудно за тобой идти.
Эх, Ипат, Господь не то терпел, а ты что не можешь терпеть: что кровь бежит?
И завел его в пещеры.
Там свечи горят.
Что же это, к чему свечи горят?
Это наша жизнь продолжается: который человек родится, тому становится свеча. Если может кто сто годов жить, сто годов горит и его свеча.
А которая моя свеча?
А вон, гляди, свеча сейчас потухнет и жизнь твоя нарушится.
Кум, у меня дети малые…
Жизнь твоя - короткая. Дойдешь домой, - хорошо, не дойдешь… Иди скорей, может, поспеешь.
Побежал Ипат. Добежал до озера, где оставил каменный дом. А дома-то уж нет, балаган стоит земляной.
Жена, дай мне рубашку беленькую, мне теперь помирать.
Обрядился, лег под святые, благословил детей, перекрестился…
Здравствуй, Ипат, Христос воскрес! Кум… не кум стоит, ангел Господень.
1915 г.
Голова
Трудился один пустынник, и был у него сын на возрасте, вместе с отцом трудился. И жили они в чистоте, мирно, за мир Бога молили. И случилось одному разбойнику проходить лесом мимо их избушки, вздумал разбойник отдохнуть от своего разбою, постучался в избушку, его и пустили.
Подзакусил разбойник, обогрелся и стал на отдых готовиться, да казну свою понаграбленную и развалил среди пола.
Пустынник все это видел, позвал сына, вышли они во двор, и говорит старик сыну:
Сынок, давай разбойника этого удавим. Деньги наши будут.
Эх, батюшка, - говорил сын, - мы тридцать лет с тобой трудимся, да это дело делать будем!
Разбойник к ночи ушел и казну свою всю унес. А наутро идет отец с сыном в лес, глядь, а разбойник-то висит, - удавили! Видно, лихой человек и своего брата не пощадил.
И опять стали трудиться отец с сыном, только не то стало, - затосковал сын и отпросился у отца на богомолье сходить.
Идет парень по дороге, а за ним вслед голова катится, нагнала его и говорит:
Молодец, айда, куда я тебя поведу!
Оторопел парень, признал голову.
Погоди, - говорит, - дай к угодникам схожу.
А ты долго ли там пробудешь?
Дён семь.
Побывал парень у святых мест, за душу погубленного помолился, семь дней прошло, идет назад - голова навстречу катится.
Ну, пойдем теперь со мной!
Ну, пойдем.
И пошел за головой.
Катится голова лесом, глухой дорожкой, докатилась до кельи, да в келью, и парень за ней.
В келье три окна прорублены; голова и говорит парню:
Сиди в келье, я по саду погуляю, только в те два окошка не гляди, в одно это гляди.
Парень сидит и думает:
«Почему в те голова глядеть не велела? Дай погляжу!»
Поглядел на восход солнца и увидел все царствие небесное, ангелов Божьих, престолы и светильники - свет нерукотворенный. Поглядел на запад и ужаснулся: там ад кромешный, писк, визг, много несчастных мучатся и отец-старик в котле кипит, так и ныряет.
Жалко стало отца, потянул он руку, уцепил его за бороду - старик нырнул, борода в руках и осталась.
А голова тут-как-тут, прикатилась в келью.
Ну, что, я, ведь, не велела глядеть в окошки.
Поглядел.
Все видел.
А смекнул, за грех какой?
Укажи мне, как до отца дойти, долго я здесь засиделся.
Долгонько: три года сидишь.
Как! Три года?
Три года времени прошло.
Запечалился парень, стоит, в руках старикова борода, не знает, что делать.
Вот тебе дорога, ступай к отцу.
Один пошел парень из кельи домой. И долго шел. Приходит к отцу. Слава Богу, жив старик, старенький какой, а борода облиняла - ни волоска нет.
Эх, батюшка, согрешил ты.
А что, сынок?
Да тогда, как разбойник-то сидел, или забыл?
Грешен, хотел его порешить.
Ну, батюшка, уготовано тебе место.
1914 г.
Подожок
Жил-был старик со старухой, был у них сын, и была у сына собака страшная, большая, и всякий раз, как идти ему на разбой, брал он эту собаку, и с пустыми руками никогда не возвращался и все, что принесет, в подожок запрячет: в подожке посередке была дырочка - полну ее золота насовал.
Отец с матерью дознались, какими делами сын промышляет, ругали его, а он все свое: как ночь, айда на разбой.
Пришло такое время - святая ночь, на Светлое Христово Воскресение, взял он свою собаку, взял подожок, ковригу, мяса, винца полуштофчик да вострый нож, - и на разбой на большую дорогу.
А один парень на чужой стороне работал, захворал, свезли в больницу, выписался и к празднику домой задумал, еле ноги тащил.
Встречает его разбойник. И была у разбойника повадка: не пропускал он первую встречу и хоть за деньги, хоть и без денег - участь одна.
Стой! Зарежу!
Чего меня резать! У меня и копейки-то нет.
Ну, ты - первая встреча, без денег убью.
И Бог знает, жалко ли стало, или уж так, разбойник разостлал полотенце, вынул ковригу, полуштоф водки, мясо.
Давай-ка сядем, наперед разговеемся.
Делать нечего, парень сел.
Разбойник налил себе стакан водки, выпил, дал парню. Выпили по стакану, да по другому, пирожка закусили.
Парень и говорит:
Все-то мне равно помирать, налей третий!
И выпил третий стакан.
Ведь, у меня, - говорит, - денег нет ни гроша!
Разбойник вынул нож, режет мясо, режет да подъедает. А парень хмельной стал. Разбойник вонзил нож в кусок мяса, поднес на ноже ко рту, а парень в руку его тык - разбойник хнык, и свалился.
Завертела собака хвостом, да домой, а парень поднял подожок и за собакой бежать.
Старик со старухой на краю села живут, в окошке у них огонек светит, разговляются.
Пустите, Христа ради, Христос воскрес!
Обрадовались старики живой душе, пустили парня.
Христос воскрес!
Похристосовался парень, подожок под лавку положил, присел к столу. А собака уж под лавкой лежит, спит.
Старуха и говорит старику:
Старик, посмотри-ка, ведь, нашего сына подожок!
Старик заглянул под лавку.
Ох, да, старуха, самый он!
Старуха к парню:
Не видал ли кого?
Видел одного и такой от него страсти набрался.
А где ты этот подожок взял?
А вот на дороге, я человека убил! - и рассказал старикам, как их сына разбойника на дороге убил.
Затеплили старики свечку, стали молиться Богу со слезами.
Слава Ти, Господи, поразил его! - и к парню, кланяются: - спасибо тебе. Как тебе Господь помог! Ты не человека, ты грех убил!
И отдали старики парню подожок полон казны и стал парень богат, и теперь такой богатый и! и! и!
1914 г.
Оттрудился
У Федоры было два сына Анисим да Терентий, - меньшой посмирнее, а большой поперечный. Федора Анисима отделила и с Терентием жить осталась. Прошло время, разжился Анисим своим хозяйством, а у Терентия с матерью все несчастье. И женился Терентий, взял жену не худую, втроем стали жить, а справиться не могут: все в раззор и в раззор.
Пришла Пасха, а у Терентия и нечем разговеться.
Вот Терентий жену и посылает к брату попросить муки - кулич испечь: хоть бы праздник провести по-людски, а там как Бог даст!
Анисим невестке отказал.
Да, чего, - говорит, - сам я что ли муку делаю? И без вас нынче трудно стало, всем надо, чего раньше-то глядели?
Так с пустыми руками и вернулась баба.
Делать нечего, вернулись от заутрени домой и разговеться нечем.
Матери-то и обидно.
И посылает она наутро Терентия:
Иди к брату, попроси хоть для меня кусочек.
Пошел Терентий.
Брат еще не вставал. Похристосовались. Просит у брата не для себя, для матери.
Так, кусочек, разговеться!
А того уж за сердце взяло: и что это, в самом деле, ходят и просят, и хоть бы для праздника покой дали.
Хочешь разговеться, - сказал Анисим брату, - вот встану, садись с нами, сделай милость, а посылать я не намерен.
Терентий отказывается:
Как же так, рассядусь я у тебя, а старуха там ждать будет. Нет, Бог с тобой, уж пойду. Только помни, за мать ответишь. Прощай!
А чего меня выделила? Жили бы вместе, все бы и было. Да лучше мне змею накормить! - вскочил, ногой топнул.
Ну и вернулся Терентий без ничего. Горько заплакала Федора.
Ну, сынок мой, так уж Богу угодно!
А Анисим выпроводил брата, помолился Богу, кричит жене:
Сходи-ка, хозяйка, в чулан, принеси мне пасхи.
Ну, та живо самовар на стол и в чулан за пасхой. Отворила чулан, хвать, а там на пасхе, обвивши, змея лежит. Скорее назад.
Анисим, глянь-ка, змея на пасхе!
Какая змея, ты с ума сходишь! Откудова?
И сам пошел. И верно, в чулане на пасхе лежит змея, - живая, шевелится, сипит на него. Осмотрелся, чего бы такое взять вспороть змею. Да уж некогда, - вздыбащилась змея да на шею ему, обвилась вокруг шеи и давай грызть.
Он ее с себя рвать, да что ни делает, не отлипает. И закричал Анисим не в голову, а она еще крепче, еще больнее.
Видит жена, дело плохо, побежала на деревню. Собрался народ. Рассказала она все по порядку, как невестка приходила, как брат приходил…
Господь, верно, наказывает!
Ну, и народ тоже между собою толкует, что верно за это Господь наказал. Да оставить так человека мучиться не годится и присоветовали попробовать молоком змею утишить.
Достали молока, полили ему на шею, - змея лизнула молочка, понравилось, и успокоилась. И стало Анисиму легче, можно терпеть. И вышло так, что одно средство - поить змею молоком.
Тут Анисим к матери, просит прощенье. А она уж забыла, не помнит на нем обиды, рада все сделать для сына, лишь бы так не мучился, и простила.
Мать простила. Или Бог не прощает? Змея не уходит. Как обвилась вокруг шеи, так и лежит: ест молоко, - ничего, а нет молока, - жалит.
Простился Анисим с матерью, простился с женою и братом и пошел странничать.
Вес с кувшинчиком, и сам не доест, а змею накормит. Все для змеи, чтобы только она сыта была: ведь только тогда и свет видит! Пробовал кислым молоком угощать, не принимает. Пробовал в печку лазать париться, не отпустит ли от духу? И дух не берет, - видно, Бог ее сохранял! - только распарится вся, да пуще и укусит.
И так странничал бедняга год, и другой, и третий.
Пришел он на Пасху к заутрене, да уж в церковь-то войти не смеет, на паперти с нищими стал.
Пошел крестный ход вокруг церкви, оттеснили его в уголок, и вот ровно сон напал на него. Вдруг очнулся, слышит: «Христос воскрес!»
Христос воскрес! - вытянул шею, чтоб из-за народа посмотреть, да что-то легко будто…
Что такое? - Да змеи-то нет больше!
Оттрудился, знать, за обиду, Бог и помиловал.
1915 г.
Заря перегорелая
Мало мы чего знаем и понятием, к чему что, не больно богаты, а помолчать, когда чего не знаешь, на это нас нет.
Пахал Кузьма пашню, измаялся. И вечер стал, заря перегорала, а Кузьма все пашет. И попадается ему навстречу старичок: смотрит куда-то, будто о чем задумал.
Скажи, говорит, Кузьма, к чему это заря перегорает?
Да к ненастью, старинушка, - ответил Кузьма.
Старичок его за руку, да через оглоблю, перевел через оглоблю - оборотил конем и ну на нем землю пахать.
Перегорела заря, звезды небо усеяли, месяц вон-а где стал, когда кончил старичок пахать, - а это сам Никола был угодник. И уж еле поплелся Кузьма с поля домой.
На другой день пашет Кузьма, и опять ему старичок навстречу.
Ну, Кузьма, к чему заря перегорает?
А день стоит светлый да теплый.
Тут Кузьма - вечерошнее-то ему, ой, как засело! - и повинился, что не знает.
То-то, не знаешь, а коли чего не знаешь, о том помолчи! - сказал старичок и пошел - и пошел наш угодник уму-разуму учить нас, на думу ленивых, гневный, карать неправду, милостивый, жалеть и собирать нас раз-бродных.
1914 г.
Глухая тропочка
Жили соседи, два охотника, и такие приятели, водой не разольешь, ходили за охотой, тем и жизнь свою провождали.
Идут они раз лесом, глухой тропочкой, повстречался им старичок. И говорит им старичок:
Не ходите этой тропочкой, охотники!
А что, дедушка?
Тут, други, через эту тропочку лежит змея превеликая, и нельзя ни пройти, ни проехать.
Спасибо тебе, дедушка, что нас от смерти отвел. Старик пошел - не узнали, за простого человека сочли, а это был сам Никола милостивый угодник.
Постояли охотники, подумали.
А что, - говорят, - нам какая вещь - змея! Не с пустыми руками, эвона добра-то! Как не убить змею?
Не послушали старика, пошли по тропочке и зашли в чащу дремучую. А там превеликий бугор казны на тропочке.
И рассмехнулись приятели:
Вон он что, старый хрен, насказал! Кабы мы послушали его, он бы казну и забрал себе, а теперь нам ее не прожить!
Сели и думают, что делать: уж больно велика казна, на себе не дотащить.
Один и говорит:
Ступай-ка, товарищ, домой за лошадью, на телеге ее и повезем, а я покараулю. Да зайди, брат, к хозяйке к моей, хлебца кусочек привези, есть что-то хочется.
Пошел товарищ домой, приходит домой, да к жене:
Тут-то, жена, что? нам Бог-то дал!
Чего дал?
Кучу казны превеликую: нам не прожить, да и детям-то будет и внучатам останется. Затопи-ка поживее печь, замеси лепешку на яде, на зелье. Надо: приятеля угощу.
Ну, баба смекнула, ждать себя не заставила: живо лепешка поспела на яде, на зелье. Завернула лепешку, положила ему в сумку. Запряг он лошадь и поехал.
А товарищ там, сидючи над золотой кучей, о своем раздумался, зарядил ружье и думает:
«Вот как приедет, я его и хлопну - все деньги-то мои и будут! А дома скажу, что не видел его!»
Подъезжает к нему приятель, он прицелил, да и хлоп его, а сам к телеге, да прямо в сумку, проголодал очень, лепешечки поел и тоже свалился.
А казна так и осталась никому.
1914 г.
Заяц съел
Хорош был для миру кузнец: в кузнице работал, за работу ни с кого не брал, ко что даст только. За своего пошел кузнец среди бедных людей, все его очень любили; узнали и чужестранные, стали ездить на праведного кузнеца посмотреть. И жил кузнец хорошо и спокойно, ни в чем нужды не знал и всем был доволен.
Вот и приходит к нему раз старичок какой-то. Это сам Никола угодник пришел испытать его.
Что́, говорит, кузнец, как ты работаешь, за какую работу что́ берешь?
Кто что даст.
Какая это твоя работа! Пойдем со мной, я лекарь. И брать ничего не будем, а денег больших добьемся.
Подумал кузнец, подумал, чего же не пойти, коли такое дело: и миру польза и душе не обида. И согласился.
И они пошли.
А взяли они с собой в дорогу один кошель с хлебом, а хлеба там всего-то по такому кусочку. Старик ходко идет, и хоть бы что́, а кузнец едва уж ноги тащит: и устал, и есть захотел. Наконец-то старичок вздумал сесть отдохнуть.
Тут кузнец за кошель, развязал кошель, вынул по кусочку. Старичок и к хлебу не притронулся, в кошель назад положил, встал себе, да в сторонку, за хворостом, хворост посбирать. А кузнец весь хлеб свой съел - есть еще больше хочется, съел и стариков хлеб, да, чтобы концы в воду, кошель и закинул, лег и заснул.
Будит старичок кузнеца.
Где, говорит, кошель?
Не знаю.
Где хлеб?
Гляди, заяц съел!
Заяц, так заяц, ничего не поделаешь.
Смотрит старичок. И хочется кузнецу правду сказать, да как сказать: ведь всего этакий кусочек съел!
Ну, ладно, - сказал старичок, - пора за дело. Пойдем к морю, за морем царь живет, у царя дочь больна, вылечим царевну.
И дошли они до моря, а лодок нет. Айда по морю. Кузнец едва поспевает. Середь моря зашли, стал старичок.
Кузнец, ты съел мою долю?
Нет! - и стал кузнец по колено в воде.
Старичок посмотрел. А у кузнеца сердце упало: признаться б, да как признаешься: ведь всего этакий кусочек!
Ну, пойдем.
Вышли они на берег и сказались, что лекаря: нет ли больных где?
У царя, - говорят, - три года царевна хворает, никто не мог вылечить.
Донесли царю. И сейчас же царь пришлых лекарей призвал.
Можете вылечить дочь?
Можем, - сказал старичок, - отведи нам особу комнату на ночь, да из трех колодцев принеси по ведру воды. Наутро за одну ночь здрава будет.
Отвел им царь комнату, сам и воды принес. И остались они с хворой царевной.
Старичок разрезал ее на четверо, разложил куски, перемыл водой, и опять сложил, водой спрыснул, - царевна здрава стала.
Кузнец глядит, глазам не верит.
Наутро стучит царь с царицей.
Живы ли?
Ну, слава Богу.
Взял царь лекарей в свою главную палату, угостил их и открыл перед ними сундуки с казной: один сундук с медью, другой с золотом, третий с бумажками, - бери сколько хочешь!
Что, - спрашивает старичок кузнеца, - доволен деньгами?
Доволен, - говорит, - доволен.
И я доволен.
Попрощались с царем и пошли из дворца, понесли казну большую.
Пойдем, - сказал старичок, - теперь к купцу, Купцова дочка хворает, вылечим ее, еще больше денег дадут.
А купец уж идет, кланяется.
Вылечите, дочь больна!
Вылечим, - сказал старичок, - отведи нам особу комнату на ночь и из трех колодцев принеси по ведру воды. Наутро за ночь здрава будет.
Натаскал купец воды, привел дочь, оставил с ними. Старичок говорит кузнецу:
Видел, как я делал?
Ну, делай, как я.
Кузнец разрезал купцову дочь, а сложить не может. до рассвета бился, ничего не выходит. Старичок видит, кузнецово дело плохо, взял, сложил куски, водой спрыснул - стала купцова дочка здрава.
Стучит отец.
Живы ли?
Ну, слава Богу.
И угостил их купец и денег дал много. Старичок за деньги не брался, а брал кузнец и напихал полную пазуху бумажек, фунтов десять.
Довольны?
Довольны, хозяин.
Простились с купцом и пошли к Волге в кузнецово село.
Старичок и говорит:
Давай, кузнец, деньги делить. Я от тебя уйду, а ты домой ступай.
И начал кузнец раскладывать казну на две кучки - тому кучка и другому кучка. Сам раскладывает, а самому так глаза и жжет, вот подвернется рука и себе переложит.
Что, кузнец, разделил?
Разделил.
Поровну?
Поровну.
Ты у меня не украл ли?
Бери себе все деньги, только скажи мне: это ты тогда съел кусочек или заяц?
Я не ел твой кусочек! - и стал кузнец по колена в земле.
Скажи, не ты ли? Деньги мне не надо, все твое.
Нет! - и стал кузнец в земле по шейку.
Когда ты неправду говоришь, так провались ты в преисподнюю от меня!
Кузнец и провалился, и деньги за ним пошли.
1914 г.
Праведный судья
Где их искать, судей праведных? А вот был один такой, и далеко, куда за Москву, и по Сибири шла о нем слава. Случись что, спор, иди к Кузьмичу: Кузьмич все рассудит.
Заехал раз к одной вдове человек проезжий, а жила вдова на большой дороге, постоялый двор держала, баба хозяйственная.
Приехал этот самый человек на жеребце, вошел в дом, поздоровался и спрашивает:
Что у тебя, тетка, кобыла-то жерёба?
Нет, батюшка, не благословил Бог.
Ну, а у меня жеребец-то жерёбый.
Ну, жерёбый, так жерёбый, мало что другой по позднему времени и не такое еще скажет.
Чуть свет поднялась баба - по хозяйству все нужно справить, вышла во двор кобылу свою попоить, глядь, а по двору жеребенок бегает. Вот Бог-то послал нежданно! Ну, пока то да сё, проснулся и гость проезжий, заглянул в окно, жеребенка увидел. Баба самовар несет, а сама, что самовар.
Вот у меня кобыла-то ожеребилась!
Как у тебя?
А что ж, у тебя что ли?
Да ведь, ты ж вчера говорила, что у тебя кобыла не жерёба. Известно, это моего жеребца жеребенок!
Пойдем к Кузьмичу! Я на тебя, окаянного, найду управу.
И пришли к праведному судье и рассказали ему все, как было. Выслушал Кузьмич каждого по очереди и велел обоим выехать на перекресток: бабе - на кобыле, а проезжему человеку - на жеребце.
Сказал праведный судья:
За кем жеребенок побежит, та лошадь и ожеребилась.
Пустили жеребенка.
И побежал жеребенок за жеребцом.
А раз побежал, так тому и быть.
Баба судье покорилась, повела домой кобылу на постоялый двор, на себя серчала: и как это она пошла на такое, ей ли не известно, что проста ее кобыла, только зря время потратила, да себя и другого в грех ввела.
А проезжий человек забрал своего жеребца. Судье низкий поклон.
Спасибо, что рассудил по правде.
Видит судья, не постой этот человек проезжий, позвал его к себе на беседу.
Посидели, потолковали. Друг другу по душе пришлись. Проезжий и говорит:
Пойдем теперь ко мне.
Ну, что ж, пойдем! - очень уж человек-то мудреный, как не пойти к такому.
Вышли из ворот. Судья остановился, прислушался.
Что это, дома-то воют будто?
Да это по тебе, Кузьмич: ведь, душа-то твоя со мною.
Вот оно как! - и пошел по дорожке с гостем в гости, откуда нет уж возврата.
Праведных-то судей, видно, Бог к себе берет: Ему нужны.
1915 г.
Скоморошик
Вздумал один человек на старости лет Богу потрудиться, поселился в лесу и стал жить один в своей келье, как пустынник. А оставались у него на возрасте дети, отца почитали, - вот навезут они в лес ему всяких разных закусок, рыб всяких копченых, икорки и селедок, ну ничего ему и не надо, помолится, поест и спать. Так мирно шли дни без греха и соблазна в пустыне.
Раз наелся пустынник соленых копчушек, прохладился чайком, вышел из кельи, прилег на заваленку и спит.
Идет мимо старичок.
Мир твоему кормному борову лежать!
Я пустынник, я Богу тружусь!
Богу тружусь! - смотрит старичок, а это был сам Никола угодник, - наешься, напьешься, да спишь, экий труд! А ты в город иди, там есть Вавило скоморох, коли его труд перенесешь, будет толк, в царствие небесное угодишь.
А каким он, дедушка, трудом трудится?
Да уж как сказать каким, только слышно про него, колокол далеко звонит.
И пошел старичок - Никола угодник наш.
А пустынник и раздумался, и вправду, какой его труд: поест, попьет и спать! - но какой же должен быть тот скомороший труд, чтобы толк был, в царствие небесное попасть?
Бросил пустынник свою келью и пошел в город скомороха Вавилу искать, потрудиться его трудом.
И не долго по улицам плутал пустынник, живо ему дорогу показали. И удивился пустынник: кого он ни спрашивал о скоморохе, все ему сердечно отвечали, и не потому, чтобы сам он располагал к доброму ответу, а потому, что спрашивал о скоморохе, о скоморошике, как величали Вавилу люди, словно уж в самом имени в скоморошьем было что-то и приятное и доброе людям.
Подошел пустынник под скоморошье окошко. А у скомороха были две женки - родные сестры, стерегли Вавилу.
Здесь Вавило скоморох?
Женки впустили пустынника в дом.
Где скоморошик?
На игрищах играет.
На каких?
Да у губернатора, там скачет и пляшет.
А скоро придет?
Придет, как первы кочета споют, либо привезут.
Присел пустынник, ждет скомороха. Ждать-пождать, стало ко сну клонить, а скомороха все нет.
Первые петухи пропели, пришел домой Вавило.
Чей это старичок? - спрашивает у своих женок.
Тружельник из лесу.
Пустынник к скомороху, рассказал Вавиле, как один старичок прохожий наставил его идти в город, отыскать скомороха и потрудиться скоморошьим трудом.
Эх, дедушка, какой мой труд! Я только скачу да пляшу, огонь да гвозди глотаю, вот и весь труд.
А хочу тебя спросить, скоморошик, какую ты пищу ешь?
Моя пища: сухая крома, да пустая вода. Вот мои женки поят, кормят меня и на постелю кладут.
Я хочу, Вавило, твой труд понести.
Рассмеялся скоморох.
Не доведется это тебе: тяжел. Посмотрите, какой я тощой, и этак и так перевьюсь. Нет, дедушка, без привычки надорвешься.
Вот утром рано приезжает человек за скоморохом.
Дома скоморошик?
Пожалуйте к Овошину на именины.
Ступай с Богом. Пешком приду, только умоюсь.
Разбудил скоморох пустынника-гостя. Сели завтракать: женки скоморошьи дали им по куску хлеба.
Ну, друг, пойдем на именины.
Пойдем, Вавило, а какой там твой труд будет?
Пустяки, только сапоги надеть.
И я твои сапоги надену.
Что ж, попробуй.
Захватили они с собой сапоги, отправились к Овошину на именины.
Не велики сапоги скоморошьи, а легки, что лапотки самые малые. Вавило обулся и ну скакать и плясать. А пустынник, как влез в них, так и почувствовал - там были гвозди вершковые понатыканы. И проголодался, а с места сойти не может: где посадили на стул, там и сидел.
Вавиле привычно, - скачет и пляшет. И до петухов скакал скоморох и плясал.
Пойдем, брат тружельник, домой.
Старик чуть не плачет. Кое-как поднялся, но и полпути не прошел: ноги идти отказываются, и пятки больно. Вавило попросил человека довезти старика до двора. И поехали.
Приехали в скомороший дом.
Ну, что, дедушка, хорош мой труд?
Хорош, скоморошик, очень хорош.
Старик снял сапоги, а сапоги полны крови.
Попытаю еще, какой твой труд есть, - сказал старик, - переночую ночь.
Сели ужинать. Дали им женки сухую крому, да теплой водицы. Позаправились - краюшка-то не больно сытна, да делать нечего.
Ну, женки, спать хочу, положите меня на постелю!
А в постель у скомороха в сенях была, на вольном воздухе.
Взяли его женки за руки, за ноги, раскачали да на кровать и шваркнули.
Старик - за столом, видит, что делается, и говорит скоморошьим женам:
Надо и мне этакий труд понести.
Женки его за руки, за ноги да к Вавиле на постель и кинули. И впиялись в него гвозди лютей сапожных.
И лежал старик, как камень, ночь-то.
До свету приехали за скоморохом, зовут на крестины.
Легко поднялся скоморошик, а старик ни рукой, ни ногой пошевельнуть боится. Позвал Вавило женок.
Сымите, - говорит, - тружельника с моей постели.
Женки взяли старика под руки и привели в комнату.
Что, дедушка, пойдем со мной?
Нету, скоморошик.
Что так?
Не могу. Велик твой труд, Вавило! Тебе велел Господь снесть и неси, а я не могу. Чую, не дойти до двора к детям. Прощай, скоморошик.
Прощай! А коли хочешь, иди со мной.
Старик ушел. Старик видел труд и сам потрудился, теперь не надо ему и лесной его кельи, как-нибудь тихонько проживет он с детьми, ему и жить-то осталось не много.
А скоморошик скакал и плясал: день скакал на именинах, другой - на крестинах, третий - на свадьбе, четвертый - так, людям на развлеченье.
Выдался свободный денек, сидел скоморох у солдатика в гостях в казарме, чесал языком, прибаутки сыпал.
Солдатик вдруг всполошился.
Вавило, - говорит, - за твоей душой пришли.
Святы ангелы.
Каки ангелы?
Нет, ступай Вавило. Прощай скоморошик!
Делать нечего, простился скоморох с приятелем и пошел домой.
А дома видит уж гроб стоит и женки ревут.
Ложись, скоморох, - ревут, - в гроб!
Лег. Лежит Вавило в гробу.
Голубь влетел.
Ты голубь?
Какой ты голубь?
Твой святой ангел. Тебя, скоморошик, Бог наградит!
Тут скоморошик и покончился.
1914 г.
Награда
Трудился труженик в пустыне тридцать лет. И все тридцать лет дьявол только и думал, как бы смутить старца. Уж как следил его, а нет, ни так, ни сяк не уловит. И нашел-таки лазейку! Был очень жалостлив старец, вот ему прямо в сердце дьявол и направил свой рог базучий.
Ночным бытом встал старец на молитву и слышит, тоненько так где-то под дверью плачет, - два голоса детских.
Сотворил старец молитву, вышел из кельи, а на пороге у двери - девочка и мальчик, и ручонками тянутся к стар-
Старец было за дверь: очень испугался.
«Куда мне девать их? Что с ребятами делать, маленькие?»
Да рассуждать не время: плачут ребятишки, попить просят. Он их и забрал к себе в келыо.
И стал старец поить и кормить детей. А они, карапузы, так и тормошат, подымут возню: и уж он вроде лошадки, и они на нем скачут, а то будто бык, да бодает-то не он, а его, и как норовят побольнее - кулачонки так поставят рогами, да с налету в него - и грех, и смех.
Какая там молитва! Днем с кормом - покормить, ведь, надо, как следует, а это не так-то просто, вечером - с игрою, время и пройдет. И хоть бы ночью, растормошат и ночью: то сказку рассказывай, то страшно, то беда какая.
Извелся совсем старец, но чтобы Богу пожаловаться, этого ему и в мыслях ни разу не пришло: ведь за все тридцать лет пустынных в первый раз познал он в своем сердце эту радость - вот так с малыми ребятами возиться! Забыл и о дьяволе думать. Видно, Божья это ему награда за тридцать его трудных лет! И ничего уж не просил у Бога, только благодарил Бога.
А ребятишки растут и растут, и много ль прошло, а они уж вот какие: лет пятнадцать и больше. Известно, как роду нечистого духа и растут не по-нашему.
Девчонка-то стала разуметь. Выпадет час старцу стать на молитву - Бога поблагодарить, а она с ним играть. И чем дальше, тем пуще эта ее игра. Стала старца к худым делам притеснять: ночью мальчишка заснет, а она соскочит с кровати и виснет.
Меня, - говорит, - скука обуяла!
Ну, и смутила старца, поддался он на худое дело.
Худое дело делать будем, а куда братишку твоего денем?
А давай убьем!
А который дьявол все это дело затеял, - ребят-то под дверь подкинул, - стоит у дверей да караулит: то-то ему радость, вот он сейчас так и сглотнет старца, и куда весь его труд пустынный!
Бери топор, - говорит девчонка, - я Ванюшку свалю, а ты голову руби!
Вышел старец из кельи, вернулся с топором. Девчонка на брата, и не то что свалила, а сам он лег. Тут подскочил старец, да топором его по шее, кровь так и брызнула, а голова прочь.
Куда мы его денем? - мечется старец по келье: кровью-то, знать, ударило.
Открывай половицу в подпол! - кричит девчонка. Старец за половицу, бился, бился, едва открыл, взял мальчишку в беремя и хочет мальчишку в подпол ссунуть, да никак не выходит, тычется на месте, и сам весь в крови.
А дьявол тут-как-тут, отбил дверь, будто человек какой прохожий, да в келью.
Девчонка к нему, повисла на шее, дрожит вся, и горько так заплакала:
Батюшка, родимый мой, кому ты оставил нас? Меня замучал к худым делам, а брату вон отрубил голову.
И уж полна келья, Бог его знает, кто набежал, - лягастые, квакастые и ивкают, и гайкают, ногами затопали, прыгают, хлопают, и все на старца, да как вцепятся и потащили…
Наша! Наша душа! - и потащили.
А сам дьявол-то по головке его, по головке…
Погляди-ка мне через левое-то плечо! Сколько лет я ходил, сколько лаптей проносил, да вот и уловил голубчика!
Тут старец словно бы опамятовался, - оградился крестом.
Нет, ты погляди мне через правое-то плечо! Бес поглядел, да так и согнулся.
Святый Боже, Святый Крепкий! - душу несли его ангелы с пением райским.
И все бесы, кто как был, так и проскочили сквозь землю.
1915 г.
Семь бесов
Есть такие города у нас на матушке на Руси, куда в Христову ночь не только серебряный кремлевский ясак, а зазвони и сам царь-колокол, сам царь-колокол не донесет.
В Сольвычегодске на пустынном усолье, где над холмиками-домами одни церкви-кресты стоят, там случается, задастся год, и счастливые в полночь слышат звон… разливной, гудёт по Устюжине шире Сухоны, Лузы, Юга и Вычегды - «Христос воскрес!» А Сольвычегодск ведь - на полпути от той дебери печорской, где нам выпало провождать дни, и среди нас Винокурову с замоскворецких Толмачей.
Человек по языку и ухваткам московский, жилистый и упорный, от крепкого кореня гостя московского, был Винокуров не без того… и чем кончил, одному Богу известно. А ожидать всего можно было, и сказывали - лет пять назад такой слух прошел, - будто уж вольный, очищенный от грехов всяких, попался он в мошенничестве и угнан под наказание. Впрочем, может, и неверно все, и живет он себе, слава Богу, где у печенгских старцев в работе духовной, да китов ловит мурманских, либо на Алтае где дела делает, либо… и совсем недельно, замореный, гнет свою линию деловую в Петрограде на Неве-реке. Мы его семь бесов называли. А окрестил его так Костров Веденей Никанорыч, человек учительный и верховой, с тем и пошло.
Семь бесов да семь бесов!
Ну, и ничего… только посмеивается.
И ведь так сидит, бывало, ничего - вечно под носом книга, любил книгу, и за год комната его прибралась, что библиотека. И невзначай так спросишь о чем, толково-таки ответит и пример приведет… только эти его примеры, - а он любил приводить, - поясняли, да не то совсем, а то и совсем обратное. Правда, эту слабость свою знал он за собой лучше всякого, да не очень смущался.
Самое для меня трудное было, - вспоминал он о годах своих ученических, - это когда задаст, бывало, учитель примеры приводить: уж как стараюсь, и все мимо. Ну, а зато по геометрии любую теорему от противного докажу.
По геометрии-то возможно… да это он так про геометрию, - сочинения ему всегда давались легко!
И бывали вечера, соберутся к нему гости, и все попутному, примется какую историю рассказывать, и скажу, ей Богу, иной раз за сердце тронет. И уж думаешь, да не ошибаемся ли, бесов-то в человеке выискивая?
Семь бесов, да семь бесов!
И не в тебе ли они самые завелись, за нос тебя водят?
И станет скучно. И придумываешь, чем бы такое вину загладить.
А пройдет день, другой, и только что быка за рога, глядь, а он снова - и весь тут и все бесы его.
Семь бесов.
Был один из заключевников наших Шведков несчастный, глаза в жизни лишился, и при жене своей жил вроде как помогал ей: если шила, - машинку вертел, - и такой, в чем душа, а по этой части, хлебом не корми. У Винокурова, как известно, частенько и хозяйские и соседские девицы находом гостили и Шведкову это на руку - ему, ведь, хоть около постоять, праздник! Вот он и притащится и войти-то войдет честь-честью, а тот как свиснет подрушным, - такие всегда водились из своих же, - и они на Шведкова разом, да все с него срывом. И уж в чем мать родила при всем честном народе визжит несчастный, тычется и ловит, чтобы как-нибудь прикрыться, - потеха!
Винокурову потеха - от хохота трясется.
И без пира вечер проходит весело.
И еще был один Штык, в деле своем дельный, тихий и работящий простои человек, и затеял этот самый Штык в простоте своей заняться каким-нибудь предметом, все ведь скуки ради для развития своего за что-нибудь принимались. И Винокуров его по-итальянски учил. Старался Штык несчастный, из кожи лез, но и в русской-то грамоте слабый, совсем с толку сбился. И как, бывало, примется Винокуров с ним по-итальянски объясняться, со смеха живот надорвешь.
Какую угодно дурость над человеком сделает, не облизнется.
Тоже студент Снеткин… был такой у нас, большой спорщик, человек общественный, как сам величал себя, с утра, бывало, выйдет из дому и до вечера по знакомым и все говорит - и как говорил! - с одного, не поспеешь и слова ввернуть. И влюбился студент Снеткин в устьвымьскую учительницу Налимову и все, как слышно, сговорено у них было и, как кончится срок, обвенчаются. Конечно, дело велось в большой тайне, да разве утаишь чего, и особенно в таком деле? Винокурову все было известно.
И случилось как-то, поехал Снеткин в отпуск, - разрешили, - пробыл там с месяц и благополучно вернулся и прямо к Винокурову с разговором. Слушал его, слушал Винокуров и час и другой и третий, изловчился, наконец, да в передышку так, будто мимоходом:
А слышали, - говорит, - Василий Васильевич, Налимова-то замуж вышла?
Тот только глаза вытаращил, заплеснуло в голове, сказать ничего не может.
И точно не знаю, - продолжал Винокуров, - за Колесникова, кажется…
А того, как варом, - Колесников телеграфист, действительно, приударял за учительницей! - да живо за дверь, да бегом. И с той поры - будет! - никаким разговором к Винокурову с разговорами не затащишь.
Учительница-то устьвымьская, Налимова, конечно, и не думала выходить замуж, а несчастный чуть не рехнулся.
Да то ли еще, много чего видывали, и слышали, и испытывали от бесов Винокуровых: замутить, в грех втянуть человека ему ничего не стоило.
Спутал молодежь нашу с наблюдающим - был такой наблюдающий при полиции забитый человек Фыркин, должность его была проверная вроде сыскной, а дара от Бога не отпущено: и то уследит, что под дозволением, и проворонит такое, того и гляди в шею погонят. С этим-то
Фыркиным и свел Винокуров, ну и началась всякая удаль с пьянством и буянством, и уж сам исправник Сократ Дмитриевич Гусев замечание сделал, что не годится, а Фыркина самого под надзор поставил.
А скучное житье наше было!
Сядешь, бывало, у окна, - печка натоплена жарко, - тепло, греешься и смотришь. А в окне - снег, и пока глаз хватает, все снег - ровный белый, и лишь сторонкой частокол черный - лес, и в лесу там не только Медведь Медведич, сама Яга Ягишна собственный домик имеет на козьих рожках, на бараньих ножках: там им попить, там им поесть! Любо и ветру - безрукому деду - у! как выйдет гулять, крыши долой так и рвет. Да и местный житель, испоколенно который на земле трудится, так свою жизнь поведет, ему не до скуки. С работой нешто скучают? А ее везде найдешь: и в аду найдешь, коли обживешься, а не то что тут, среди снегов и теми в большую зимнюю пору и долгих белых, как день, ночей с незакатным весенним солнцем. Ну, а так человеку пришлому, заключевнику, скучно.
Скучно - в глазах белый снег - пустынно…
Хорошо, конечно, на возрасте лет для души в пустыне пожить, подумать. Да опять же без работы не справиться и, как пить, с лествицы скувырнешься. Сами старцы, доброй волей удалявшиеся в пустыню, прямо говорят, что в пустыне жить без работы невозможно, - там уныние находит и печаль и тоска велика. А наш возраст-то, за малым исключением, голоусый и думать нам еще не о чем было: у нас не было ни белого дня, ни красного солнца, ни блеклой луны, ни частых звезд, ни глухой полночи, еще надо было добыть их, - ничего мы в жизни не сделали, нам дело делать надо было, не покладая рук, силы свои расточать для родины, строить землю - кормилицу нашу, людей смотреть да себя показывать.
И так худо, - безвременно, да еще и дела нет, - совсем плохо.
Сами видите, как человека судить, если другой раз не выдержишь, поддашься бесам Винокуровым.
И скажу не в осуждение, участь эта дурацкая не миновала ни единого из нас: все мы так или этак, а в лапы его попадались. И только один из всех нас старейший Костров Веденей Никанорыч, человек учительный и верховой, стоял твердо на страже.
У всех у нас грешки водились, ну, человеческие, по слабостям душевным и телесным, а уж Веденея Никанорыча ни в чем не попрекнешь. И потрудился он немало на своем веку, с народом пожил, поучился и сам уму-разуму поучил. И живи он одиночно, был бы прок для него и в сем нашем житии пустынном: по лествице исхитрился бы подняться и с Божьей помощью за год какой дошел бы до рассмотрения дел человеческих и рассуждения. Да беда в том, что не одиночно жил он, нас орава неприкаянных вечно на глазах у него: тот клянчит, другой жалуется, третий нюнит, пятый беснуется. Зрителем да наблюдателем безгласным он не мог оставаться, вот и хороводился с нами, и за нашим назоем уж о своем ему подумать часу за день недоставало, и только что ночным бытом.
За год заключевной жизни своей снискал себе Веденей Никанорыч всеобщее уважение и сам Сократ Дмитриевич Гусев, наш исправник, если что надобно бывало, - выходило ли распоряжение от губернатора, либо по собственному какому своему наказу, вызывал к себе одного Кострова, и наоборот, если случалось недоразумение, шел за всех Веденей Никанорыч. И на почте доверенность Кострова стояла высоко. Писем получал он со всей России и сам писал во все края и по этим письмам почтмейстер Запудряев доподлинно удостоверился, что Веденей Никанорыч человек правильный, да, кроме того, по собственному признанию Запудряева же, Костровы письма доставляли большое развлечение и сердцу отраду.
Веденей Никанорыч кореня костромского и речь его округлая.
И как станет, бывало, в красный угол под вербушкой, - «власы поджелты, брада Сергиева», умилишься, глядя.
«Эх, - подумаешь, - Веденей Никанорыч, отец, да быть бы тебе старцем, проводить житие во пустыне среди полей родимых Богу на послушанье, людям в наученье, какие там цветы расцветают, какие колокольчики… жить бы тебе во пустыне в келейке у березок - белых сестер благословенных!»
Веденей Никанорыч в миру жил, хотел устроить жизнь нашу по совести. Сызмлада от житий угодников наших, хранителей правой милосердой святой Руси, запало ему в душу. Веденей Никанорыч в миру жил и, делая дело прямое и полезное, видимое и понятное на сей день с его бедой и горем, несправедливостью и бессовестностью, и, как все мы, ошибаясь и плутая в средствах устроить этот сей день, никогда не забывал от пустыни заповеданное, что лишь отречением и жертвою подымается человек для дел, направляющих жизнь нашу, спутанную и своими житейскими средствами нераспутываемую.
Так в задушевной беседе сам он мне однажды признался, когда я ему о пустыне… колокольчиках, о березках, белых сестрах благословенных, свои мысли вслух говорил.
Кстати сказать, умиление это перед березками не раз мирило его с Винокуровым: от сорока ли сороков московских, либо по дару Божьему понимал Винокуров тайное слово земли русской с ее белыми березками.
В заботах о нас проходила жизнь Веденея Никанорыча, все хотелось ему собрать нас беспастушных, растерявшихся в безвременной жизни среди дебери печорской обок с Медведем Медведичем и Ягой Ягишной.
И тут немало досаждал ему Винокуров.
И как-то на Святках, наткнувшись на обнажение Шведкова и на прочее содомское бесстудие, отряс он прах от ног своих и больше к Винокурову не наведывался.
Семь бесов!
Прошли Святки, прошла пора венца, понаехала самоедь на Масленой с оленями, да с оленюшками, и весною повеяло.
Как почернело небо над белым снегом - я никогда не видал такого черного неба над таким белым снегом, как завыло в лесу - ой, не Яга ли Ягишна, окрещу окно! - и как ударили к службе по-великопостному, помянулось на сердце о Пасхе, и все помирилось.
Скоро Пасха!
Все семь седмиц прошли мирно.
Что-то не слыхать стало и о Винокуровых бесах, - ни разу Шведкова не обнажали, хоть и таскался он к Винокурову по-прежнему языком почесать, и сам итальянский язык на время был оставлен, и Штык несчастный понемножку приходил в себя. Или и сам Винокуров не такой сделался? Заглянешь, бывало, сидит вроде меня у окна, смотрит на черную тучу, с сороками разговаривает - сорочье под окнами так и прыгает. Или и впрямь, и не только в Чистый понедельник, а и в весь пост бесу скучно!
В Великую субботу Веденей Никанорыч загодя зашел к Винокурову: вместе уговорились идти на заутреню к Стефану Великопермскому. Все на нем было по-праздничному и только не умудрился подстричься. В нашей дебери печорской ни куаферов, ни парикмахеров не водилось, и если нужда бывала, стриг городовой Щекутеев: собирался Веденей Никанорыч к Щекутееву, да что-то помешало.
Позвольте, Веденей Никанорыч, - у Винокурова так глаза и загорелись, - да я вам бородку поправлю!
Другой раз Веденей Никанорыч, может, и подумал бы, даваться ли, но тут под Пасху…
Так с боков бы немножко! - поглаживал Веденей Никанорыч свою браду Сергиеву.
И откуда-то в мановение ока появился одеколон, вата и пудра, - у Винокурова этого добра всегда водилось, а за пудрой и ножницы - большие, для газетных вырезок, маленькие - ногтевые. Только бритвы не доставало.
Ничего, - утешал Винокуров не столько Веденея Никанорыча, сколько себя самого, - я вам маленькими ножничками чище бритвы сделаю! - и что-то еще говорил так несвязное, словно бы поперхивался, и на минуту исчез в соседнюю комнату к сеням.
Не предайся Веденей Никанорыч умилению своему пасхальному, наверно бы спохватился, - время еще было. Ведь, что говорить, выбегал Винокуров к сеням не за чем-нибудь, а просто-напросто тихонечко выхохотаться: мысль о стрижке, какую такую бородку смастерит он Веденею Никанорычу, занялась в нем неудержимой игрой - бесы не моргали, все семь.
Зеркала стенного не было, печорская деберь не Париж, но зато было одно стоячее, его и поставил Винокуров на стол перед Веденеем Никанорычем и, хоть Веденей Никанорыч себя никак в нем поймать не мог, а все-таки перед зеркалом вроде как по-настоящему. И все шло по-настоящему: подвязал ему Винокуров белое - занавеску белую, запихал за воротник ваты, щелкнул в воздухе большими ножницами.
Был час десятый - в соборе у Стефана Великопермского ударили к деяниям.
В одну минуту!
И заработали Винокуровы ножницы.
«Хорошо бы еще поспеть к деяниям…» - подумалось Веденею Никанорычу.
И к деяниям успеем, - стрекотал Винокуров. Работа кипела.
И под ножничный стрекот неугомонный кипели воспоминания о часах грядущих. Винокуров припоминал московскую Пасху и, мыслью ходя по векам стоглавым, заглядывал в церковки и монастыри и часовни на пасхальную службу.
У нас на Костроме тоже, - сдунул волос Веденей Никанорыч, - деяния все до конца прочитают и начинается утреня, и после канона, как унесут плащаницу, до слез станет и страшно…
Тогда игумен и с прочими священники и диаконы облачатся во весь светлейший сан, - истово, как по писанному, словами служебника Иовского, выговаривал Винокуров, - и раздает игумен свечи братии. Параеклисиарх же вжигает свечи и кандила вся церковная пред святыми иконами, приготовит и углие горящие во двоих сосудах помногу. И наполняют в них фимиана благовонного подовольну, да исполнится церковь вся благовония. И ставят один посреди церкви прямо царским дверям, другой же внутрь алтаря, и затворят врата церковные - к западу. И взъемлет игумен кадило и честный крест, а прочая священницы и диаконы святое Евангелие и честные иконы по чину их, и исходят все в притвор. И тогда ударяют напрасно в канбанарии и во вся древа и железное и тяжкая камбаны и клеплют довольно.
Винокуров забрал глубоко и из брады Сергиевой вытесывался помаленьку колышек.
Выходят же северными дверями, - продолжал Винокуров, - впереди несут два светильника. И, войдя в притвор, покадит игумен братию всю и диакону, предносящему перед ним лампаду горящую. Братия же вся стоят со свечами.
Время бежало - поди уж и деяния оканчивались бегло бегали ножницы, а еще только одна сторона подчищалась, другая кустатая неровно кустела.
По окончании же каждения, - слово в слово выговаривал Винокуров, - приходят пред великия врата церкви и покадит игумен диакона, предстоящего ему с лампадою, и тогда диакон, взяв кадило от руки игумена, покадит самого настоятеля, и снова игумен, держа в руке честный крест, возьмет кадило и назнаменает великия враты церкви, затворенные, кадилом крестообразно и светильникам, стоящим по обе стороны, и велегласно возгласит:
«Слава святей единосущней и животворящей неразде-лимей Троице всегда и ныне и присно и во́ веки веков». И мы отвечаем: «Аминь». Начинает по амине велегласно с диаконом:
«Христос воскресе из мертвых, смертию на смерть наступи, и гробным живот дарова!» - трижды и мы поем трижды.
«Да воскреснет Бог и разыдутся врази Его…» - мы же к каждому стиху «Христос воскресе» трижды. - «Яко исчезает дым да исчезнут…» «Тако да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся…» - «Сей день иже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь…» «Слава…» «И ныне…» - и скажет высочайшим гласом:
«Христос воскресе из мертвых, смертию на смерть наступи!» - и крестом отворив двери, ступит в церковь, и мы поющие за ним, - «и гробным живот дарова». И тогда ударяют напрасно во вся древа и железная и тяжкая кам-баны и клеплют довольно, - три часы.
Три часы, - протянул за Винокуровым Веденей Ни-канорыч.
И как в ответ ему внезапно ударило… ударил из темной воли колокол у Стефана Великопермского и покатился - и покатился над белым снегом разливной, как вестница-туча, над снегом, над лесом, над Ягой, над Медведем и катился - колокол за колоколом - по белым снегам за Печору к Уралу.
Христос воскрес!
И не трыкнув, запрыгали ножницы. Веденей Никанорыч поднялся.
Веденей Никанорыч, еще немножко! - чуть не плакал Винокуров.
Оставалось и вправду немножко: левая сторона совсем готова была и только с правой все еще кустики, срезать кустики - и делу конец.
Сию минуту! - чуть не плакал Винокуров, усаживая Веденея Никанорыча.
Но если и в пассаже у Орлова, где бритва либо сам автостроп действуют и то не одну папироску выкуришь, дожидаясь очереди, а ножницами… ножничками только с первого взгляда, кажется, пустяки: отрежешь волосок, за ним другой, за этим третий, - а ты попробуй-ка волосок за волоском, да и не как-нибудь, а начисто, да и свету такого нет, одна лампа не обманет ночь.
Молчком трудился Винокуров.
Время бежало, минуты летели, летели, как ветер - дед безрукий, а он летал за окном, разбужденный внезапным звоном.
Ничего, ничего, успеем, - вдруг утешился Винокуров, - ризы долго меняют, у нас, в Толмачах сто риз батюшка переменит.
Веденей Никанорыч сидел, на себя не похож.
Ничего, ничего, - утешал Винокуров, - «…кто пропустит и девятый час, да приступит, ничто же сумняся, ничто же бояся, и кто попадет только в одиннадцатый час, да не устрашится замедления: велика Господня любовь. Он приемлет последнего, как и первого!»
Веденей Никанорыч сидел на себя не похож: ус его необыкновенно длинный, и тот и другой, и если не поднять его кверху, что-то вроде печенега получается, а поднимешь - Мефистофель, и притом бородка…
И когда зазвонили к обедне и, наконец-то, отвязал Винокуров занавеску, прошелся пуховкой, сдунул волос и так навел зеркало, чтобы можно было посмотреться, Веденей Никанорыч безнадежно замотал головою.
Что это? - он потягивал себя за бородку.
Колышек! - и глаза Винокурова так и горели.
Веденей Никанорыч стоял, на себя не похож.
Волей-неволей, а пришлось усы кверху поддернуть, ничего не поделаешь. Винокуров ему и закрутил их, на кончиках тоненькие, как мышин хвостик.
И вышли на волю.
Звонили к обедне.
Хлопьями снег летел, несло и мело, и в крещенской крути со звоном, с железом и тяжким камбаном выла метель, вывывала -
Христос воскрес!
Обычно на озеро, ловить рыбу, муж и сын Татьяны, девятилетний Саша, ездили вдвоем, без нее. То было их, так сказать, мужское дело. Именно такую мысль внушал сыну муж Татьяны Вадим с тех самых пор, как с шести лет стал его брать с собой на рыбалку. Но в тот день Татьяна «взбунтовалась» – ей не хотелось оставаться одной на целый день в их дачном домике.
– Нет, мужики, как хотите, а я с вами поеду!– тоном, не терпящим возражений, заявила обычно тихая покладистая Татьяна.
Вадим пытался урезонить жену, де, что ей там делать, они будут с удочками сидеть и на поплавки смотреть, а она?
– А я позагораю, покупаюсь, и так летом никуда кроме дачи не езжу, так что же и здесь в четырех стенах сидеть да грядки полоть? Надоело!
Вадим изумленно смотрел на жену, пожалуй, впервые за десять лет их супружеской жизни она так вот демонстративно «взбрыкнула». До того почти всегда его мнение в семье было непререкаемо.
– Ну, не знаю, где ты там загорать собралась. Мы же не на пляж едем, а на лесной берег озера. Там кругом сплошные кусты, камыши да осока. Место для купания, конечно, можно найти, но ты же нам тогда всю рыбу распугаешь, вон какая разъелась – вода из берегов выйдет, – в очередной раз Вадим неодобрительно «прошелся» по внешности чрезмерно, как ему казалось, располневшей за годы супружества жены.
Муж любил вот так, время от времени, «подковырнуть» Татьяну, де давно пора на диету садиться, а ты даже чуть-чуть не хочешь умерить свой аппетит. В то же время, сам Вадим не являл образец стройности даже в юношеские годы, а уж после тридцати, тем более. При этом, если полноту Татьяны можно было назвать в какой-то степени естественной, женской, когда ни одна часть ее тела в своем объеме не перегоняла остальные, то большой живот и круглая физиономия Вадима явно не гармонировали с его относительно тонкими руками и ногами. Тем не менее, выслушивая от него раз за разом реплики типа: куда ты столько ешь, Татьяна и сама против воли стала свыкаться с мыслью, что и в самом деле чрезмерно полна. Впрочем, безобразной она себя не считала. О том, прежде всего, свидетельствовали довольно «плотоядные» взгляды некоторых мужчин, обращенные на нее на улице, и на работе. А вот дома? … Уже через полтора года после замужества, когда Татьяна родила Сашу и естественно заматерела телом, она стала замечать, что Вадим как-то охладел к ней. Хотя и до того особо горячей любви с его стороны не наблюдалось, но после рождения сына … Татьяна не раз жаловалась своей матери на прогрессирующее равнодушие мужа.
– Господь с тобой, Таня! Радуйся, что не пьет и не гуляет. Это такая редкость среди наших русских мужиков. Считай, тебе повезло. Знаешь, сколько баб от этого мучаются? Да, считай большинство.
Что верно, то верно, Вадим пил только по праздникам и в меру, по бабам не ходил, с друзьями не задерживался, не являлся, ни болельщиком, ни коллекционером. Единственной его относительно вредной привычкой была рыбалка. Но и на нее он ходил без спиртного, один, а в последние три года с сыном. Такой вот муж был у Татьяны, без недостатков и, в общем-то, без особых достоинств, ибо зарабатывал тоже не очень. То, что мать возводила в достоинства: не пьет, не курит, не гуляет … За десять совместно прожитых лет Татьяна как-то перестала все это воспринимать как некие суперкачества. Ей чего-то постоянно не хватало. Чего, это вдруг захотелось такого замужней женщине на тридцать четвертом году жизни? Она и сама толком не могла осознать, но чувство какой-то неудовлетворенности стало ее постоянным спутником.
Наконец, Вадим, после долгих препирательств, сдался:
– Да черт с тобой, езжай. Только предупреждаю, делай что хочешь, но нам не мешай …
Татьяну посадили на заднее сиденье их «Лады», придерживать сумки с продуктами. Даже сын в дороге выполнял более важную миссию, сидел на переднем сиденье и держал удочки. Этим как бы подчеркивалось ее в этой поездке второстепенное значение. От дачного поселка до озера ехать где-то пять-шесть километров грунтовой проселочной дорогой, проложенной в густом березово-осиновом лесу. День выдался на загляденье: редкая облачность, почти ни ветерка. Но Вадим словно не замечал, ни ласкового солнца, ни бело-зеленого леса, ни чистейшего воздуха, никакой благодати, его волновало одно – будет ли клев. Саша пока еще не перенял от отца эту «концентрацию» на рыбалке. Он успевал и по сторонам посматривать, и с матерью разговаривать.
За пять лет, после того, как они приобрели дачу, Татьяна так и не узнала окрестностей, ибо большую часть летних отпусков проводила в дачном домике, да ходила в магазин в близлежащий поселок. То стало еще одним поводом подвигшем ее к «бунту». Она хотела хоть на недолго «сменить декорации». Находясь рядом с природой, она, москвичка, городская жительница, ее как таковую еще и не видела.
До озера доехали быстро, дорога оказалась хоть и изрядно разбитой, но сухой. Машину оставили на импровизированной стоянке, где уже стояло десятка два-три легковушек, мотоциклов и скутеров. Их скромная «Лада» притулилась там как бедная родственница. Тем не менее, плату за нее взяли такую же, как и за навороченные «Джипы» и прочие иномарки. Дальше вдоль берега пошли пешком по извилистой, хорошо утоптанной тропинке.
– Не отставать!– скомандовал Вадим, шествуя впереди с большим рюкзаком за плечами.
– Мам, у нас с папой свое место есть, где мы рыбачим. Там всегда клюет,– тем временем информировал мать Саша.
– Не, мы сегодня туда не пойдем,– отозвался отец.
– Почему?– недоуменно спросил Саша.
– Потому, что с нами, вон, мать напросилась. А на нашем месте, что она будет делать? Там же отдельного места для купания нет, она нам точно всю рыбу распугает, да и коряги там на дне. Так уж и быть, есть тут одно место, где и нам рыбу половить, и ей покупаться место найдется,– смилостивился над женой Вадим.
– Это где же?– продолжал недоумевать сын.
– Помнишь, в прошлом году, мы там с тобой один раз ловили? Это подальше нашего места. Там еще три березы вместе срослись. Мы тогда порыбачили, а под вечер уже в эту заводь пошли и искупались?
– УУУ… это далеко, и тогда мы с тобой там почти ничего не поймали,– выразил недовольство сын.
– Зато рядом заводь для купанья удобная. Ты туда мать отведешь, она там и покупается, и позагорает, сколько хочет, и нам мешать не будет,– пояснил свой выбор Вадим.
– Как, вы меня куда-то отошлете, что ли?– подала, наконец, возмущенный голос и Татьяна.
– Да нет. Ты от нас всего метрах в семидесяти будешь. Там такой отличный заливчик со всех сторон сплошной осокой отгорожен и от озера тоже, дно твердое и без коряг. Для купания лучше места на всем озере не найти. И мелко там, вода хорошо прогревается. А мы же рядом будем, не бойся. Если что, крикнешь,– непринужденно засмеялся Вадим, дескать, чего боятся, в лесу никакого зверья кроме белок нет, а если человек – кто на такую толстуху позарится.
Пешком пришлось топать километра полтора. По дороге встречались компании рыбаков, уже приступившие к ловле. Кто-то приехал не только рыбку половить, но и предварительно «принять на грудь». Но таковых, кто начинал с «принятия», оказалось немного. В основном рыбачили настоящие фанаты этого дела. Один раз на своем пути они встретили необычных рыбаков. То оказалась молодая пара, тоже, скорее всего, супруги. Только здесь действующим лицом являлся не только мужчина, но и женщина. Там, где они рыбачили, видимо, нельзя было забросить удочки с берега и они оба, он в плавках, она в купальнике, зашли по колени в воду и так следили за своими поплавками. От глаз Татьяны не укрылось, что муж… или кто он там этой женщине приходился, нет-нет, да и посмотрит на свою подругу. На ней был такой купальник, который никогда бы не решилась, не то что одеть, но и купить Татьяна: чуть прикрытая грудь и почти полностью оголенные ягодицы. Зато смотрел он на нее так, … в общем, далеко не безразлично. А женщина совсем не худенькая, то есть, все, что не закрывал ее купальник, а он почти ничего не закрывал, смотрелось очень вызывающе и откровенно. Татьяна неосознанно позавидовала – для женщины это такое удовольствие, когда на тебя вот так смотрят. Если это муж, то, наверняка, он и дома на нее вот так же смотрит … и не только.
Где-то там на озере
На новеньком бульдозере
Весь в комбинезоне и в пыли —
Вкалывал он до́ зари,
Считал, что черви — козыри,
Из грунта выколачивал рубли.
Родственники, братья ли —
Артельщики, старатели, —
Общие задачи, харч и цель.
Кстати ли, некстати ли —
Но план и показатели
Не каждому идут, а на артель.
Говорили старожилы,
Что кругом такие жилы!
Нападешь на крупный куст —
Хватит и на зубы, и на бюст.
Как-то перед зорькою,
Когда все пили горькую,
В головы ударили пары, —
Ведомый пьяной мордою,
Бульдозер ткнулся в твердую
Глыбу весом в тонны полторы.
Как увидел яму-то —
Так и ахнул прямо там,
Втихаря хотел — да не с руки:
Вот уж вспомнил маму-то!..
Кликнул всех — вот сраму-то! —
Сразу замелькали кулаки.
Говорили старожилы,
Что кругом такие жилы!
Нападешь на крупный куст —
Хватит и на зубы, и на бюст.
Как вступили в спо́р чины —
Все дела испорчены:
«Ты, юнец, — Фернандо де Кортец!»
Через час все скорчены,
Челюсти попорчены,
Бюсты переломаны вконец.
(No Ratings Yet)
Еще стихотворения:
- Строго различаем мы с давнишних пор: Маленький воришка или крупный вор. Маленький воришка — пища для сатир, Крупный вор — наверно, где-нибудь кассир; Маленького вора гонят со двора, Крупного сажают...
- Как освежается душа, И кровь течет быстрей! О, как природа хороша! Я на груди у ней! Качает наш челнок волна, В лад с нею весла бьют, И горы в мшистых...
- Прибегала в мой быт холостой, задувала свечу, как служанка. Было бешено хорошо и задуматься было ужасно! Я проснусь и промолвлю: «Да здррра- вствует бодрая температура!» И на высохших после дождя...
- Над мутно-опаловой гладью Вечернее солнце зажглось, И ветер примолкший играет Душистою тонкою прядью Твоих золотистых волос. В вечернем шуршанье осоки, В ленивом плесканье весла Лениво душа замирает, И глаз так...
- Покачнулася хата на взгорье В камышовых ресницах озер, Утром ясным вишневые зори Вышивают на окнах узор. Под горою серебряной плавью Гладят волны озерный покров — Хорошо этим утром мне плавать...
- Кому страдание знакомо, Того ты сладко усыпишь, Тому понятна будет, Комо, Твоя безветренная тишь. И по воде, из церкви дальной, В селеньи бедных рыбаков, Ave Maria — стон печальный, Вечерний...
- Среди «голубых жемчужин» Южного Урала есть целебное соленое озеро Мулдак. По утверждению геологов, было оно когда-то пресным. Предание древнее это Поведал мне старый солдат. Над озером жаркое лето Лучистый раскинуло...
- В сем озере бедные любовники присны Престают быть в сем свете милым ненавистны: Отчаяваясь всегда от них любимы быть, И не могуще на час во свете без них жить; Препроводивши...
- Тихо в озере струится Отблеск кровель золотых, Много в озеро глядится Достославностей былых. Жизнь играет, солнце греет, Но под нею и под ним Здесь былое чудно веет Обаянием своим. Солнце...
- Я скольжу по тропинке, Ее промесили коровы. Вон, стоят они, Думают что-то, По брюхо в воде. Костерок сгоношили Кусимовские рыболовы, И чадит он, Запутавшись В собственной бороде. Захожу в Якты-Куль,...
- Е. Н. Демидовой …Наутро сад уже тонул в снегу. Откроем окна – надо выйти дыму. Зима, зима. Без грусти не могу Я видеть снег, сугробы, галок, зиму. Какая власть, чудовищная...
- Сегодня утро Рождества. Морозные сверкают звезды. Горят дощатые помосты, где ты выкрикивал слова. Где, уподобившись Христу, ты день иль два спасал Россию… Но он-то за слова такие гвоздями был прибит...
- Куст. Приоконный куст — Радость для бедных уст, — Можно сделать дуду И упреждать беду. Весть. Внезапная весть — Басурманская месть: Ждите от нас гостей — Вам не собрать костей!...
- Вставные казенные зубы давно уходящей эпохи, хоть выглядят тупо и грубо, но для загрызанья — неплохи. Тяжелые потные руки уже отступающей эры такие усвоили трюки, что и не подыщешь примеры....
- Звук становится чище и глуше… Что же снова тебе не сказала?.. Говорили про дождь и про лужи, И промозглую сырость вокзала, Говорили про верхнюю полку, Про купе и сквозняк, и...
Последние материалы сайта
Наследственные

«Прекрасный фонтан» на центральной площади Нюрнберга
Фотографии Антона Дергачева (кроме первой), комментарий Владимира Дергачева Идеальная супружеская пара на лебедях, которая вот-вот поцелуются. Фонтан «Супружеская или Брачная карусель» создан по мотивам немецкого средневекового поэта и композитора Ганс
Симптомы
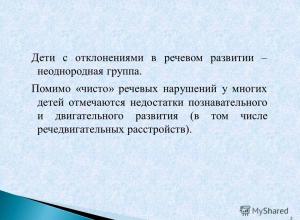
Карта-схема комплексного обследования
Логопедическое обследование детей с церебральным параличом Логопедическое обследование детей, страдающих церебральным параличом, строится на общем системном подходе, который опирается на представление о речи как о сложной функциональной системе, структ
Методы диагностики

Пять компотов из вишни на зиму
Александр Гущин За вкус не ручаюсь, а горячо будет:) Содержание Яркая, красивая ягода вишня содержит в себе огромное количество полезных микроэлементов и витаминов. Ее универсальность в кулинарии позволяет приготовить массу хороших, вкусных, уникаль
Болевые синдромы

Готовим изумительную пшенную кашу на молоке в мультиварке редмонд Как сварить пшенную кашу скороварке
Ни одна кастрюля в мире не сварит пшенную кашу на молоке так вкусно, как это сделает мультиварка. И ни одна плита не справится с ее приготовлением так быстро, как мультиварка-скороварка. Простой и здоровый завтрак – сладкая пшенная каша на молоке, сдобрен
Синдромы

Рыцарь монет таро значение в отношениях
Название: Рыцарь пентаклей, Рыцарь денариев, Рыцарь монет, Воин монет, Рыцарь бубен, Путешественник, Завоеватель Дел, Всадник, Кавалер, Полезный человек, Повелитель Земель Диких и Плодородных. Значение по Папюсу: Выгода, Прибыль, Польза, Интерес. Важное
Методы лечения

Гороскоп на август телец девушка
Томный август у многих Тельцов станет благоприятным временем для развития личных отношений. В этот период у представителей данного знака Зодиака возникает возможность использовать на полную катушку свое природное обаяние для успеха в сердечных делах. Чтоб
